






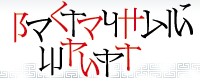
Статьи
Евгений Мигунов - 1941: Ополченческая одиссея
[ ... ]
С детства, с тех пор как я себя помню, я был ущербным. Я понял это по глазам моей матери, по ее вздохам, по взгляду, устремленному на мою левую ногу…
«Врожденный паралич» - вот что я узнал о себе в пять лет. И еще: «Этот доктор Босик – идиот. Попал в нерв!» Я не понимал, что это означало, пока не смог сравнить себя, пока не научился сравнивать себя с другими. Нет, меня не обзывали «хромым», «уродом». Наоборот, меня жалели, щадили. Но я видел в глазах матери, бабушки, сестры Нины, теток и дядей кроме жалости еще – досаду. Какую-то промелькивающую злобноватую искру досады и обвинения. Как будто я был в чем-то виноват…
Нога у меня была значительно худее и суше. Икроножный мускул был парализован, стопа скрючена. Казалось – жилы коротки. Подняться на носок я не мог. Не так уж хороша была и правая стопа – но все-таки выручала. Конечно, я был горем для матери. Наверное, было бы лучше, если бы я умер, как умер первенец моих родителей – тоже Женя. Но я не умер. А стал в течение всей жизни мучаться и стесняться своего физического недостатка, тщетно пытаясь его скрыть, пряча ногу в тени, передвигаясь синкопическими перебежками, всегда идя в компании сзади.
Но желание быть как все позволяло мне быть не последним в ребячьих играх. Я компенсировал немощь – ловкостью, реактивностью, смекалкой. Находил какие-то приемы в играх, доступные мне одному и – именно из-за моей хромоты. Я, не будучи в состоянии быстро бегать, умел остроумно прятаться, увертываться с броском и кувырком от мяча в «лапте», «финтить» в футболе. Переводить затеи ребят, связанные с ходьбой, бегом, прыжками, в другой – интеллектуально-азартный ряд. И еще – я все время поддерживал в себе иллюзию: «не замечают!»
Интересно, что спустя 50 лет я утратил способность стесняться (правда – только в разговоре!) этой ущербности, и как-то при встрече со своими студентами-однокурсниками (к этому времени – уже стариками) спросил: а вы знали, замечали, что я был хромым? Они (милые люди!) сделали большие глаза и сказали: «Ну да?»
Пожалели по привычке…
Я ходил с дворовыми ребятами в баню. Но чаще старался – один. Мылся незаметно в уголке, поджав ногу под мраморную скамейку. Медосмотры и медкомиссии были для меня сущей пыткой. Правда, врачей я не стеснялся. Но друзей-товарищей… Словом, тот, кто не испытал – тот не поймет!
О Боже, почему мы стесняемся того, в чем нет нашей вины?
И сейчас мы стесняемся потребовать удостоверение об участии в Великой Отечественной войне, куда мы пошли добровольцами в народное ополчение. Стесняемся, потому что остались живыми. Если бы погибли – не стеснялись бы!
Война застала нас, студентов II курса ВГИКа, в Тарусе, где еще накануне, вчера, в то же самое время мы мирно покрасили спящему Левке Мильчину1 очки в оранжево-красный цвет и заорали над ухом: «Левка! Вставай, горим!» Он, вскочив с кровати, машинально и профессионально вывалился в окно, даже не успев как следует проснуться. Окно было на первом этаже школы, где мы располагались во время пленэрной учебы в июне – уже второй год.
Как раз против этого окошка на столбе и висел четырехугольный репродуктор, включавшийся местной радиосетью в исключительных случаях. И сегодня он был включен. А случай, действительно, на этот раз был исключительным.
Говорил, заикаясь, Молотов…
Этим летом мы работали над этюдами из рук вон плохо. И [попивали], и ленились, точно чувствовали – незачем! Война носилась в воздухе. Какой-то дух, предчувствие – об этом мы потом говорили все.
По молодости и телячьему оптимизму мы не осознали в полной мере, почему бабы на пристани воют, ломают руки, причитают. Мы разозлились на то, что срывается лето. И, наскоро смотав свои негустые пожитки и этюдники, двинулись в Москву. Как-то стихийно, просто – посоветовавшись друг с другом. Вроде – без приказа начальства. Просто нам стало ясно: мы должны быть в центре событий!
Пароходик-катерок до Серпухова…
Поезд…
Москва…
В Москве, вроде, было все, как обычно. Наверное (не помню уже сейчас) нам дали в институте какой-то срок для устройства дел и для того чтобы наше начальство решило, что с нами делать. Очевидно, не было точных инструкций на сей счет. Помню только наклеенный на стенку интендантского склада на Крымской площади Кукрыниксовский плакат: прорванный Гитлером пакт о ненападении и штык, упершийся ему в лоб. А рядом – плакат Тоидзе с текстом присяги2…
Еще ходили слухи о бомбежке, которая, вроде бы, была в Москве. Но другие говорили, что это была пробная «тревога». Скорее всего – так и было.
Свою родню – отца, жившего с сестрой моей матери тетей Зиной3, тоже овдовевшей и связавшей свою жизнь с моим беспутным и бесшабашным папочкой, - я зашел навестить на ул[ицу] Фрунзе4 и не застал. [Как и] тетка, «засекреченно-служащая» работница отдела кадров в Наркомземе, а потом где-то еще (меня это не интересовало), отец, в 1940 году вернувшийся из загранкомандировки в Урумчи (Зап[адный] Китай)5, на почве благополучного возвращения, возлияния, эйфорий, перспектив и прочего, скоропостижно женившийся на моей тетке, тоже особого любопытства у меня не вызывал. Помогал он мне мало. Я научился обходиться в жизни своими силами, окончив школу и поступив в институт.
Он тоже где-то что-то делал - не то в «Техноэкспорте», не то в «Союзпромэкспорте». Сестра тоже, выйдя замуж без благословения, жила где-то в Краскове6. В общем, кроме института, мне деваться было некуда. В каком-то психологически нереальном, невесомом состоянии я посетил всех, кого знал и с кем дружил в Москве. И кого застал дома. А когда наступил срок явиться в институт для получения инструкций о дальнейших действиях, помыл голову холодной водой под краном, побрился, ополоснулся, и, как всегда, «зайцем» прокатился на троллейбусе мимо «статуи Мухиной» к крылечку родного института.
А было всего лишь 25 июня 1941 г[ода].
В институте кипели страсти… Правда, кипели вяло. Шатались, чего-то ждали… Курили. Травили анекдоты. Делились слухами. Потом выяснилось: студентов посылают на трудфронт. Рыть окопы, убирать урожай, помогать по хозяйству – в общем, проза. Никакого героизма – одни мозоли.
И еще – организуется ополчение. Студенты забронированы – второкурсники и выше. Интересно, а если студент захочет быть добровольцем – возьмут?.. В общем – ничего определенного. Говорили, институт эвакуируют куда-то в Среднюю Азию. С возникающей тревогой – чувствуя, что что-то не клеится на фронте, что песенки типа: «своей земли не отдадим ни пяди», «будем бить врага на его территории», «не суй свое свиное рыло…» и др. заменились трагически-пафосной «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…», - [создавалось] какое-то ощущение, что без нас не справляются. Временно – но не справляются.
И уже становилось очевидным, что хладнокровно относиться к тому, что происходит, уже нельзя. Сознание этого как-то сразу, в течение дня-двух, овладело всеми…
Вдруг – 3 июля – паническое «Братья и сестры!» Ого!
Объявили: в институте организуется пункт записи в ополчение.
Стали обсуждать друг с другом, как быть. Пойдем? Не пойдем?..
Как-то сразу определились и уехали с глаз долой трудфронтовики - актерский и часть режиссерского ф[акульте]та. Операторы – прикомандировались к кинохронике. Какие-то маневры и передвижения в студенческой среде – не поддающиеся анализу и контролю. Никакой информации.
И наконец: «Ну как, ребята? Пошли?..» Пошли. Записываться в комнату в конце длинного ВГИКовского коридора. За столом сидели представители военкомата и дирекции института, партсекретарь, комсорг, кто-то еще.
Во весь рот ухмыляясь, подошел, шаркая каблуками, Коля Кемарский7. Он – то ли записался, то ли собирался. «Ну – как, старик? Решаешься?..»
А я сидел и решал только одну задачу. Как быть? Именно мне! Все мои товарищи готовы. Вот-вот подписью своей удостоверят свой патриотизм, смелость, мужскую отвагу, право на героизм.
Душой и я был способен на это. И даже больше. Я представил себе, как именно я буду центром, примером хладнокровия, сарказма и циничного презрения к врагу.
Но тут же вспоминал и о том, что в кармане у меня – свидетельство об освобождении от воинской повинности – «белый билет». И о том, что он выдан мне как дефективному, неполноценному человеку, - именно потому, что я не смогу выдержать физ[ической] нагрузки и действий, необходимых для пребывания в армии. Но, стесняясь своей неполноценности, я скрывал до этого от ребят свою «белобилетность», посещал вместе со всеми уроки военного дела, участвовал с грехом пополам в «военных учениях» и лучше всех издевательски копировал нашего военрука Александрова:
«Быец Михуноу! Бли чего принызначена рукуятка у хгранаты?» - Следовал мой ответ и его резюме: «Ниверрна! У корне ниверна! Рукуятка у гранате принызначена, шобы ею рукуировать!»
Я не знал – возьмут ли меня вместе со всеми, если об этом узнают в столе записи.
Ребята не знали, что я льготен. Я подумал, что в крайнем случае попрошусь «нестроевиком». Остаться в стороне я не мог. И – я решил! Одним из первых я подошел к столу. (Вторым – первым был Толя Сазонов8. Свидетель – Л.Мильчин).
К моему удивлению, мое отношение к воинской обязанности никого не интересовало. Военные билеты не спрашивали ни у кого. Мне задали ряд вопросов: отдаю ли я себе отчет в серьезности своего добровольного шага? Есть ли родные и что-то еще…
«Ну вот и все, а ты боялась! - с форсом сказал я Кемарскому и Толе Сазонову, - Интересно только, дадут ли нам оружие?..» Я представил себе, что дружным патрулем из трех человек мы втроем, как на плакатах, идем в ночь, бдительным оком разоблачая проникших в тыл диверсантов-ракетчиков и прочих гадов!..
Ополчение представлялось мне вполне романтическим и целесообразным мероприятием.
Я уже ощущал в ладони сетчатую рукоять пахнущего машинным маслом пистолета или пулемета и, притаившись, подпускал к себе цепи врагов и расстреливал их в упор. И, невредимый, снова затаивался и перекуривал до новой атаки. И опять!.. Остальную работу по уничтожению захватчиков, судя по знакомым кинофильмам, должны были производить наши до зубов вооруженные танковой и боевой техникой славные воинские кадровые части и авиация. Надо же – каким был дураком! [Война «ad libitum» - вот что мне казалось поначалу, пока…]9
В конце концов, так и не поняв, что я совершил подвиг, сам не ведая того, и удовлетворенный тем, что я оказался не хуже других, а в одном строю со всеми, поехал собирать манатки, прощаться с родными и своей тогдашней любовью Сюзаночкой Бялковской10.
Меня переполняло чувство гордости за свое решение. Двух мнений быть не могло. Я был бы несчастен и жалок, если бы не подошел к столу…
По пути я тщил себя надеждой, что добровольцев не будут стричь наголо.
Это не входило в мои расчеты. Я хотел быть душкой-военным в шинели и, главное, - в сапогах, где в твердом (пусть кирзовом) голенище скроется мой дефект, обернутый в солдатскую портянку. А там – хоть в рай!..
Холодно, растерянно, непонимающе простился со мной отец. У него были свои заботы по эвакуации. Казалось, он не понял, что я ухожу воевать. Но водки на прощание выпили. Я долго не рассусоливал момент прощания. Расстались даже весело. Я сказал только, чтобы ключ оставили в домоуправлении. Мне пообещали. Тетка собрала мне – что похуже. «Спартаковский» синий, с подкладкой в мелкую клеточку прорезиненный плащ, вельветовые – 40 см ширины – портки, пару линялых черных сатиновых трусов, носки, всякую там муру – полотенце, зубной порошок, мыло.
На ноги я одел парусиновые серые на кашемире полуботинки.
[На голову - ]серую буклевую кепочку.
Нашелся и рюкзак. Тетка набросала туда кой-какую закуску: круг полтавской колбасы, хлеба, какие-то консервы. Подпоясался ремнем…
Потом снял плащ. Перекинул по-дачному через руку.
А потом - проявил инициативу: взял с подоконника непочатую поллитровку. Сказал: «Буду ноги растирать, если замерзнут!»
Отец считал меня большим остряком. Всегда заразительно смеялся на мои анекдоты, зажмуриваясь и разевая редкозубый рот. Так сделал и на этот раз.
Оценил.
Расцеловались. Но как-то несерьезно.
Я застучал резиновыми каблуками по стертым ступенькам дома на ул[ице] Фрунзе.
Внизу услышал, как закрылась дверь.
Сглотнул слезы.
Облегченно вздохнул.
Теперь нужно к Покровским воротам.
К Сюзанке.
С Сюзанкой – отношения странные. Она – очень хороший, добрый человек. Дочка Казимира Малахова11. В институте, шокированная моими непристойностями, которые я себе позволял для самоутверждения, один раз влепила мне такую оплеуху, что на батарее центр[ального] отопления, о которую я, падая, ударился головой, осталась вмятина.
После этого я ее полюбил…
«Но странною любовью».
В десятом классе школы я пережил довольно серьезную душевную травму. Меня бросили.
Просто – нахально бросили и предпочли другого. Здорового, практичного и перспективного летчика-курсанта. Истребителя иллюзий.
До этого я исправно, по всем правилам, исполнял роль нежного, романтически-возвышенного, безумно влюбленного в сексуально-могучую, опытную и испорченную умницу. Два года я ее устраивал во всех отношениях, кроме материального, ибо был беден и плохо одет. И стыдлив. Я долгое время не мог поверить в то, что получил отставку. Ну, я понимаю, когда сразу! Но ведь я старался. Два года старался! И был одобряем! И вкусы, и любовь к танцам, и литературе. Мне оставалось только одно – мстить!
Чем мстить-то? Стать графом Монте-Кристо? Ха-ха!
Но - немножко отомстил!
Летом – отставка?.. Зимой – взял и поступил в институт! Да в какой? Во ВГИК! 33 человека на место! Что там ее вонючий ГИТИС? А чтобы добить ее, надо было завести явную «замену». И чтобы была не хуже, а эффектнее. Немножко из-за этого, узнав, что вся прежняя «хевра» (В.Шершевский, Б.Голубовский и «Сема»12 и др.) с девочками собирается на танцверанде в ЦДКА13, уговорил Сюзанку пойти потанцевать. Она удивилась, но согласилась. Я устроил «показ». Было замечено.
Сам делал вид, что не замечал, пока не подошел Голубовский. «Брось валять дурака, - сказал он, - идем к нам!» Я не подошел. Изображая любовь до гроба, сделав свое дело, увел Сюзанку с веранды. Она все поняла. Обиделась. Потом простила. Вообще относилась ко мне с нежностью и жалостью. Видела мою душевную хрупкость под бесшабашностью оболочки.
У нее в свою очередь был роман с «режиссером»-однокурсником. И даже не роман, а «помолвка». Но я, любя ее как хорошую, прямую и честную правдивую девчушку, привлекательную внешне и неглупую, не терял надежд. На всякий случай!
Все было тщетно. Она была верна своему «нареченному».
Но, видя мою одинокость, сиротливость, что ли, которую я переносил с большим самообладанием и юмором, привыкла ко мне, как старая жена. Примерно так относятся друг к другу уже пережившие кульминацию супруги. Нет ни секретов, ни попыток обновления. Родной человек, и все. Что-то вроде сестры.
А «нареченный» ее – что-то «забурел». Ей было как-то одиноковато.
Вот к ней я и ехал.
У Сюзанки была чудесная мать. Мать-страдалица. Брошенная звездой эстрады (К. Малаховым), милая, добрая Ольга Александровна14. Человек с постоянными слезами в глазах, душевная, мягкая, теплая. Она ко мне относилась чудесно. Мечтала обо мне как кандидате в зятья.
Прощаться с ней было труднее, чем с родичами. Она заплакала. Ушла к себе, оставив нас с Сюзанной.
Были и поцелуи, и клятвы не забывать и помнить. Но я немного играл в героя. Это мешало быть искренним. Картинно разломав серебряный полтинник на две части, мы поделили его на двоих, обещая соединить их после войны при встрече. Свою половину я потерял…
В общем, было много слез, нежностей, откровений.
Я не мог долго этого выносить. С рассветом, часа в три, я просто сбежал.
На Хохловский бульвар я выбежал с каким-то облегчением. Слава богу! Теперь все. Они – уедут с матерью. Беспокоиться будет не о ком! И, весело закинув рюкзак за плечо, зашагал вдоль бульвара.
Ближе к Покровским воротам я увидел поразившее меня зрелище: по бульвару, в абсолютной и поэтому страшной тишине, быстрым шагом, как-то прячась под деревьями бульвара, шла очень длинная колонна людей по четыре в ряд. Песочно-пыльная, с белыми и красными пятнами (потом я увидел, что это кровь), опираясь друг на друга и на костыли и клюшки, колонна легкораненых, в подштанниках и шинелях внакидку, «драпала» по бульвару. Скорее всего, за недостатком транспорта эшелон с ранеными, прибывшими в Москву, переправлялся в госпиталь у Яузских ворот своим ходом. Это я думаю сейчас. А тогда, когда казалось совершенно мистическим это безмолвное наличие и существование действительной военной реальности, доказательств кровавой сущности войны, я был потрясен близостью фронта и смерти. Казалось, что немцы уже в Москве – настолько свеженькое доказательство ковыляло мимо…
Явка на пункт сбора в институте была назначена на семь часов утра. Или восемь. Я пожалел, что рано ушел. Но не мог. Не мог остаться. Железным нерв был лишь при посторонних! Я сел на скамейку и попытался подремать.
И заснул…
Когда открыл глаза, часы у Покровки показывали шесть. Подходил трамвай – довоенная «Аннушка».
В институте никого еще не было. В полной неразберихе прошел день… К вечеру наш директор Файнштейн с грехом пополам привел [нас] к школе на том месте, кот[орое] теперь назыв[ается] [Звездный] бульвар15.
Очень похоже снял Урусевский сцены с Самойловой16. Но претенциозно. На самом деле было проще и ниже. Cъемка – не с движения и не с эффектного ракурса.
Школа как школа. Много людей у входа перед решеткой. Меня они не волновали. Я знал – своих, родных нет. Некому…
Совсем не помню так волновавшего меня события:
«Придеть цырульник с бритвой во-острой!
Обрееть правый мне висок!
Я буду вид иметь ужа-асный
Их! С ха-алавы до самых ног!»
Не помню, когда нас стригли наголо. Помню только, что по возвращении моей буйной шевелюры не хватало, чтобы покорить блондинку – Нинку17!..
Может, - там, может, где-то в Мцыри18, на бивуаке, нам сняли волосы с головы, по которой не плачут!.. Долго чувствовать себя новобранцами нам не дали.
Миша Богданов19 недавно вспоминал на встрече «ветеранов»:
«Не успел я закинуть рюкзак на полати-нары, как тут же – «Ста-а-ановись!», «На первый-второй – рассчитайсь!» И все. И пошли!»
Почти так это и было. Мне только запомнилось и другое…
Я с каким-то животным любопытством смотрел на все, что происходило вокруг. Я был в «запретной зоне». Меня радовало, делало «таким, как все» это странное пребывание среди тех, от кого я теперь уже ничем не отличался.
Разве только – они не видели того, что сегодня утром видел я: мы все – кандидаты! Слава богу, если будем плюхтеть через бульвар в бинтах и подштанниках!..
Смотрел на милые рожи своих товарищей, [на] Тольку с его выщербленным передним правым и старческими ямочками-трещинами на щеках. По-моему, он уже тогда был – наголо. Смешная, круглая, какая-то слоновая голова… Растерянно-неопределенные улыбки на лицах ребят.
Улыбаются, чтобы не плакать?.. Всеобщая душевная размягченность, зырканье глазами. Слушают, что говорю – не слышат.
Наверное, так же и я! Мне говорят – киваю головой!..
Но у меня все позади. А здесь – прощанье. Мама Женьки Куманькова20 – легендарная старушка, «мать Ниловна»21 – смотрит слезящимися глазами на смешного – голова откинута столбиком – гуся, гусенка?
Пахнет перегаром. Может быть – от меня? Может быть! Рождается идея! Нахожу «союзников». Колька, Толька, кто-то еще. По-моему, Серега Каманин22. Идем в гимнастический зал, где нары. Самые настоящие, тюремные (в моем представлении). «Растираем ноги», закусываем колбасой. Смотрим вопросительно друг на друга: ничего страшного? Может быть – так будет и дальше? Серега вскакивает и замирает. Мы тоже, глядя на него. К нам идет лысоватый и к тому же обритый наголо, в очках с золоченой оправой, 50-летний крепыш с внимательным взглядом и длинными волосатыми руками.
Наш директор. Файнштейн.
«Вольно» - шутит он. И, заметив бутылку: «Ай-яй-яй! Придется лишить стипендии!..» Мы смущенно хмыкаем: еще не привыкли к военному положению! «…За то, что не оставили командиру!» - заканчивает он. Мы смеемся. Облегченно, но и с большим сомнением: видно, дело плохо, если такой сухарь, жесткий и неподкупный на улыбку, «ледяной» Файнштейн заигрывает с нами.
Из разговора выясняем, что он будет все время с нами, «при нас». Как мы понимаем – кем-то вроде политрука. Хорошо. Страшно только, что куда-то рухнула стена, разделявшая нас.
Вместо ужесточения, «официальщины», субординации – одинаковая обреченность в глазах. Грусть и сожаление.
Кричат с улицы. Становимся в строй. Мы, оказывается, – люди бывалые. Не зря нас терзал Александров – военрук. Я держусь поближе к Тольке, он – не против. Наверное, так чувствуют себя перед расстрелом… Ну, мысленно, конечно.
Теоретически, так сказать!..
Идет перекличка. Орем: «Я!», «Я!». Иногда врывается штатское: «Как вы сказали?» Общий хохот. Нервный? Да нет – все нормализуется! Обмениваемся мнениями. «Р-разговорчики!..» Затихаем. На кирпичной веранде появляется какой-то с кубарями. Произносит общемотивированное что-то. С цитатами. Привыкли на лекциях. Не слушаем. Общие места. Призывы, цитаты – все пропускаем. И вдруг – конкретное! То, что нас касается сейчас. Сию минуту. Решает нашу судьбу. Распределение по склонностям. Подобие демократии: «Шоферы или умеющие водить? Два шага вперед». Шагают: «Хруп-хруп, шшак!» Потом ищут знающих языки. Потом – пулеметчики или знающие устройство. Сразу понимаю: дальше – только пехота: табуретки!
Смотрю на Тольку. Говорю: «Давай будем ездить на телеге?» Толька кивает.
«Хруп-хруп-шшак!» - перед строем - мы и еще одна пара с завода «Калибр». Нас фиксируют пофамильно и возвращают в строй. Я в восторге: то, что надо – будут возить! А в технике уж как-нибудь разберемся: не политэкономия! Толька – тоже вроде рад. Рост – 192 и плоскостопие!
Вот и все.
Забрали рюкзаки.
Снова построились.
Командовать нами поставили комвзвода т. Величко – из запаса. Склеротик. Поняли, когда скомандовал:
«Нале-е… - потом остановился и, соображая, скороговоркой, - …стало быть… ВО!»
Потом до Волоколамского шоссе мы слышали: «Напра-а - стало быть - Во!», «Бе - стало быть – гом!»
Нас это веселило. Особенно когда звучало как песнь:
«Нале-е - стало быть,
ха-атставить!
Напра-а - стало быть - Во!»
И характерное:
«А-РРыс – тфо - тры-ы!
А-РРыс – тфу – тры-ы!»
Мы двинулись защищать подступы к столице… Пока еще в брезентовых говнодавах.
Колонна в ряд по четыре довольно стройно и «в ногу» маршировала, выйдя на Ленинградское шоссе. Петь стеснялись. Кругом стояли люди. С надеждой смотрели на нас. А может быть, без надежды. А может быть, и не смотрели…
То, что я не задаром получил «белый билет», я почувствовал уже у стадиона «Динамо». Я вообще-то всегда предпочитал даже две остановки провисеть на подножке трамвая и если и ходил в дальние походы, на лыжах или летом – за грибами, то мог в любое время лечь, задрать к небу ноги и переждать, когда снова появятся силы. А здесь - вот ужас! Я уже едва ковылял, затянутый в машину, в конвейер спокойно и нормально шагающих людей! Признаться в слабости – не позволяло самолюбие и боязнь насмешек. Вот кошмар! Я ковылял, иногда подпрыгивая, когда чувствовал, что нарушаю строй. Соседям по строю, заметившим, что я – что-то «не того», объяснил: «Гвоздь, зараза, в пятке!.. Хоть бы привал какой устроили!..»
Наверное, главнокомандующий всеми военными и штатскими силами на земле услышал мои молитвы. Раздалась команда: «Батальон!.. Стуй, ррыс-два!». «Привал!» Я бросил рюкзак к стволу дерева и сразу бросился на траву, задрав кверху ноги. Как будто – шучу… Разыгрываю клоунаду… Ребята – захохотали.
Это было совсем рядом с Москвой, около двух крепостных башен из красного кирпича с перемычкой между ними…
А по шоссе один за другим мчались крытые брезентом грузовики и «Эмочки», и все – туда, куда в лиловую дымку садилось солнце…
…Для тренировки и осознания своей беспомощности и безвыходности положения начало было положительно неплохим!
Но делать было нечего!..
«…Не говори, что не дюж!».
Вот я и не говорю…
В каком-то кошмаре, в полуобморочном состоянии (для меня – [естественном]) мы прошли еще несколько перегонов…
Мое счастье, что из-за несыгранности или невозможности непрерывного движения наше тактическое командование то и дело давало нам отдохнуть. Похоже было, что другие вовсе и не нуждались в отдыхе. Курили, шатались между деревьями парка. Кой-кто дремал, сном выбивая остатки прощального возлияния. Дремал и я. Наступила ночь…
Небольшими группками мы, уже покапитальнее, подложив под головы неудобные рюкзаки, подмерзая с непривычки, устроились на сон… И тут какому-то идиоту вздумалось проверить нашу мобильность и вообще деловые качества.
Раздались короткие команды к подъему. Кое-как в темноте мы построились – и наши отцы–командиры пониженным голосом сообщили нам, что стало известно, что в нашем районе (где-то у Аэропорта) сброшен десант из диверсионных немецких групп. [Вооружение наше состояло, как будто, из выданных нам трофейных (немецких) австрийских штыков – винтовки к ним предполагались…]23 Мы должны быть бдительными и, находясь друг от друга на расстоянии вытянутых рук, неподвижно стоять. И если заметим какое-нибудь движение или движущиеся фигуры – обезвредить их. Что это была за глупость – сказать трудно. Мне показалось, что тот, кто дал эту команду-распоряжение, повредился мозгами. Но – психологическое воздействие этого приказа разбудило нас от пассивного отдыха и мы, добросовестно растянувшись цепями, сверлили глазами темноту довольно густого липового леска–аллеи, не зная – верить ли в опасность или нет? Иногда, наверное, от утреннего холодка, шерсть на загривке шевелилась, и это создавало иллюзию страха.
Все это было непонятно и немотивированно. Когда мы во дворе играли в «казаки-разбойники» или дотемна гоняли в «12 палочек» - там были безукоризненные логические условия игры. Было понятно, что надо делать и - для чего.
Взрослые оказались большими дураками, чем я предполагал. «Ничего себе, - думал я, переминаясь с ноги на ногу и бдя. - Если так же будет и дальше – ничего хорошего ожидать не приходится!»
Конечно, никакого десанта не оказалось и в помине, и мы, уставшие и продрогшие, невыспанные и несвежие, построившись с рассветом в походные колонны, снова двинулись туда, где было нужно нашим присутствием создать видимость военной силы.
Вперед, на запад!
Сейчас мне кажется, что все, что тогда со мной и вокруг меня происходило, - какой-то неясный мучительный сон, в котором я был главным действующим лицом, и удивительнее всего то, что есть свидетели того, что со мной это действительно происходило. Извилины, что ли, заросли, сгладились? Уже с большим трудом объясняешь себе последовательность событий, какие-то куски временно вываливаются, что-то помнится реально, как вчера виденное…
Так бывало иногда во время сильного опьянения – провалы и реалии. Один раз, утром (я тогда был студентом), мы с Серегой Каманиным после сильного возлияния мотались туда-обратно от Зачатьевской общаги, где он жил, до моего дома на Остоженке, 47, провожая друг друга и никак не решаясь расстаться. Расстались не позднее часа ночи. Но к моему удивлению, когда я вошел в комнату, чтобы лечь спать – за окном было светло. Светило солнце!
Я рухнул и проспал до трех часов дня. Утром меня мучила мысль, почему расстались ночью, а путь по коридору был таким длинным, что в комнату добрался только утром?.. Объяснилось все это просто. Соседка сверху, выходя утром (в шесть) на прогулку с собачкой, видела меня сидевшим на ступеньках у двери, в которой торчал ключ… Я – спал!..
…Потом захотелось есть. И не мне одному. Мне – пожалуй, менее других. Я вообще ел очень мало с детства. И мучил меня не голод, а неспособность идти наравне со всеми. К вечеру мы дошли не то до Красногорска, не то до Нахабина, где нас, пообещав накормить краковской колбасой, погрузили в товарные теплушки, раздолбанные и пахнущие цирком – видно, катался в них кое-кто и кроме сорока человек.
Это было прекрасно. Полное счастье – никуда не идти! Уже мерещилось, как нас подвозят к окопам на передовой, где в ряд стоят дымящиеся походные кухни… Удобненько устроившись в уголке, мы приготовились вздремнуть, притулившись друг к другу… Как мне показалось, колеса отбили всего 32 такта и замедлили ход, после чего раздалась команда к выходу!..
Неужели снова идти?
Да!
В полумраке светлой летней ночи видя спину предыдущего, иногда тыкаясь в рюкзак носом, иногда заваливаясь в сторону, с закрытыми глазами, мы брели, как лунатики…
Казалось просто чудовищным, что о нашем благополучии никто не заботится. Мы как-то к этому не привыкли. Кое-кто начал ворчать и поматюгиваться. Кое-кто обращался открыто к отцам-командирам: «Хоть бы покормили, епть!.. А то уже ноги не тянут!..»
Но оказалось, что обещаниями можно было прокормить нас довольно долго. От злобы и беспомощности – не бастовать же! – прибавляли шагу. Бедный помкомвзвода, сам измотавшийся до предела, героически пытался поднять поникший дух ополченцев. Бедный, бедный Давид Владимирович! Он, наверное, судорожно вспоминал верное средство для подъема духа – песню. Активисты его поддерживали. Но не очень. Очень – хотелось жрать. Как на грех, Файнштейн знал всего лишь две песни из всего обширного расейско-солдатского репертуара. Одна – комсомольская–балтийская – «По морям, по волнам!..», другая - «Помню, я еще молодушкой была!». Первую песню поддерживали неохотно: очень жрать хотелось. Вторую приняли благосклоннее: он, запевая, переделал ее с протяжно-лирического на маршевый лад, этим несколько заинтересовал всех и даже приостановил кое у кого выделение желудочного сока…
Все были в ярости: снова пронесся искусно пущенный слух о том, что за поворотом, в глинисто-березовых овражках, нас ждет привал и кормежка. Никто не верил.
И в первый момент даже не поверили глазам, когда, перевалив гребень, поросший молоденьким березнячком, в уютной лощинке увидели чудо: кругленькая, на колесах, со смешной, виденной нами только в кино, трубой-коленом с грибком-пламегасителем, походная кухня и дюжий дядя с черпаком – предстали перед нами в своей плотоядной обнаженности.
«У-рр-а!..» - раскатилось по холмам и долинам. Если бы враг был близко, он был бы сражен взрывной волной энтузиазма!
Ах, что это были за щи!..
Щи из автоклава… Кислые шти! Нам с Толей и Колей был налит полный плоский котелок. Рыжее, с рублеными квадратиками капусты, горячее, с плавающими кружочками жира, окрашенными томатом в янтарный цвет, душистое, с волокнами распаренной говядины и цельными мелкими картофелинками, хлёбово! Да с куском, нет, с двумя, нет, с тремя – грубой черняшки! Да еще котелок добавки (пустили Тольку – при взгляде на его [корпуленцию] повар дрогнул).
Как мало надо человеку, чтобы быть счастливым…
И еще – полежать. Да до вечера. Да накрывшись с головой от солнышка плащом. Забытье…
Никакой войны! Ничего! Рай!..
А потом снова шли. Кто шел, а кто – ковылял. Видя, как шатает меня, Колька – здоровый, длинноногий, – взял у меня рюкзак. Благородство всегда наказывается: отец-командир, заметив непорядок, поинтересовался: почему два рюкзака? «Так что - помогаю обессилевшему товарищу!» - «За проявленную сознательность назначаю вас, боец…» - «Кемарский, Ваш-ство!» - «…Кенарский, атделенным командиром!» - «Служу трудовому народу!». Так я был впервые обойден производством в чины… Сам виноват!
Ну вот, кажется, и солидный привал. Боюсь, что не стоило так стремительно двигаться к этому четырехугольному зеленому газону размером с футбольное поле и окруженному с трех сторон высокими березами, с четвертой – смешанным лесом с негустой опушкой, чтобы застрять на нем на добрых две недели для повторения всего того, что мы знали еще в средней школе… Россию здесь мы не спасали. Правда, по сравнению с марш-броском, от которого неделю сводило ноги и мозжили подошвы, это был санаторий. Это был заповедник «Мцыри» - бывшая барская усадьба.
Сразу же началась дифференциация. Какие-то особенности военных достоинств, зафиксированных в каких-то котирующихся документах (хотя вроде нет – билетов не спрашивали при записи), или особая ловкость, умение приспособиться (а может быть, партийность?), как-то разъединили наш дружный взвод.
Какие-то ночные передвижения на компункты, какие-то перешептывани[я] и шушуканье о чем-то, чего я не понимал, мало меня заботили, хотя я их и замечал.
Мы занимались обычной строевой подготовкой. Кидали деревянные, окованные жестью от консервной банки, гранаты в «окопы». Нам наконец-то выдали винтовки – польские трофейные карабины – короткие, но тяжелые. «Кавалерийские» - объяснили нам позже.
Были и учебные стрельбы. На них выяснилось основное качество карабинов: попаданий из них в мишень не замечалось, но зато сила отдачи была такая, что по мокрой траве можно было без перебежек отступать «на заранее подготовленные позиции».
Я был очень тощ. 48-50 кг при росте 181. Ключицы – наружу. Очень большое удобство при стрельбе! Подкладывал пилотку, сложенную вчетверо!
Откуда пилотка? А ведь нас еще и обмундировали. Вот где рухнула моя последняя надежда на выход в полноценность.
С тайной надеждой на кирзовые говнодавы стоял я в очереди на обмундирование. И вдруг – удар: обмотки!
Не сапоги! Обмотки!
Я уж не обращал внимания на гнусную серую хлопчатобумажную обмундировку: гимнастерку и полугалифе с завязками.
Удар! Подумать только – обмотки!
Ребята с шутками и прибаутками начали переодеваться. Наш назначенный взводный24 – молоденький, белкозубый, прямоносый, с крепкой, к ушам расширяющейся челюстью, не по летам серьезный парубок - хмуро и неодобрительно смотрел на нас. По-деловому показал на примере, как закручиваются обмотки. Ботинки были тяжелые – из свиной кожи, некрасивые, плоские, как на полотнах Грекова25 у музыкантов. На подошвах из кашемира – кружочки-шипы. Это - чтобы мы не поскользнулись, идя в атаку!..
Я тихо и скромно удалился под сень орешника. Забравшись в глушь, переодел подштанники и портки, сел и заплакал.
Потом обмотал ноги, как учило начальство. Посмотрел – кошмар! Размотал. Пошел – набрал сухой выгоревшей травы. Вдохновенно подложил между кальсонами и галифе толщинку. Связал снизу тесемками, чтобы не съезжала. Снова обмотал – вроде замаскировался. Соломка кололась, шуршала и похрустывала. Но делать было нечего.
Родилась идея: сшить толщинку из тряпок. А где взять? Запасное полотенце. Трусы. Иголка, нитка. Сошью! Надо только выбрать время, чтобы никто не видел. Про войну – вообще забыл.
Вспомнил, когда позвали строиться. Панасюк – взводный – презрительно обошел строй, брезгливо и обиженно оглядывая нас и совершенно не интересуясь парадностью внешнего вида вверенного ему пушечного мяса.
Пока он ходил перед нами, что-то резко и грубо произнося – то ли инструкции, то ли распоряжения, - я, как заколдованный, глядел на его шинель. На нем была длинная (до пят) кавалерийская настоящая шинель с малиновыми петлицами. И главное – до пят! Ах, если бы, если бы…
Вечером сделал попытку. Улучив момент, когда он молча сидел, глядя в пространство своими [орлино-голубыми] глазами и покусывал по привычке соломинку, я оказался рядом с ним и как-то по-дружески и с восхищением, придуриваясь и унижаясь, навел разговор на мишень. Сказал, что, мол, наверно, летом тяжело и жарко таскаться с такой тяжестью. То ли дело у меня – «[непромокантель]». В случае дождя – сухенький как сухарик. Он – славный деревенский парень, не видевший кроме крестьянского зипунного сукна и сатина ничего, что бы подняло его классом выше, – клюнул! Клюнул так, что я сразу и не поверил в удачу. «Неси. Махнемся! А не пожалеешь?..». Я – рванул так, что затрещали кусты.
И вот я – счастливый обладатель заветной вещи. До пяток!
Главное – скорее бы холодало… Пока сказал ребятам – малярия! Познабливает что-то. Спать было отменно хорошо! И в скатку скатывалась лучше: кольцо получалось более просторное.
Воспользовался моментом и наскоро сшил из полотенца и трусов накладку толщины. Перестал шуршать.
Теперь – хоть в разведку!
Не услышат.
Вооружены теперь мы были «по завязку»: карабин, противогаз, котелок, брезентовый ремень с патронташем… Пока пустым – по пять патронов нам выдали, только когда мы проявили себя активными бойцами и по тревоге, неожиданно объявленной нашим ротным ночью, быстро и довольно организованно (что нас взаимно с начальством удивило!) заняли оборонные рубежи и окопались. Окопались, естественно, саперными (50 см длины) лопатками, выданными нам как приложение к полной военной выкладке, кот[орая], включая рюкзаки с НЗ, весила никак не меньше пуда. Сходить «до ветру» без противогаза было запрещено - и это не потому, что пища наша была недоброкачественной. Ее вообще вроде не было: давали хлебушко да по два кусочка сахару. (Не скажешь, что кормили на убой, хотя потом выяснилось, что именно так и было!)
Нет! Карабин, лопата и противогаз были «личным оружием бойца». Избавиться от этого комплекта можно было, только расставшись с жизнью. Но и этого пока не предвиделось. Обучение затянулось.
Правда, у нас с Толей – «пулеметчиков по призванию» - еще мерещилась одна возможность… Наш отделенный – Н.В.Кемарский - стал «товарищем командиром отделения». Именно его мы с Толей, вспомнив, что воевать-то мы собрались не как-нибудь, а – с «кандибобером», командировали с просьбой к взводному. И он с полной ясностью доложил нашему хмурому Панасюку о горячем желании отделения (а может быть – роты?) иметь в своем арсенале пулемет. Освежив в своей памяти список заявленных добровольцев, ротный вызвал нас пред свои голубые очи и вручил нам, наконец, то, о чем мы мечтали (думая избавиться от [строевой] и пудовой ежепоходной ноши, заменив ее на полагающийся, по идее, пулеметчикам пистолет).
«Это» было вручено нам в запакованном картонном ящике, завернуто внутри него в пахнущую машинным маслом и тавотом промасленную бумагу.
Мы вдвоем, кряхтя, перетащили под свой куст-палатку этот ящик с приложением двух квадратных, со скругленными углами, кассет для патронов (тоже довольно тяжелых, хотя и пустых). Боясь показать свою некомпетентность, Панасюк жестоким голосом «прыказал» нам разобраться в течение суток в конструкции пулемета, собрать его и доложить о готовности применения его в бою. Намекнул нам, что бывает за неисполнение приказа!
Напуганные, но довольные своим исключительным положением, мы под завистливыми взглядами марширующих по кромке поля однополчан принялись за работу. Пулемет, по этикетке, вложенной в ящик, называвшийся «Кольтом», происходил из славной страны Бельгии. И был, как ни странно, совершенно новенький.
Он состоял из двух основных частей: сошек – двухпудовой треноги с поворотной и фиксирующейся головкой – и круглого ствола с параллелепипедной угловатой затворной частью. Вес без воды, заливаемой в кожух, был около 10 кг. С водой вес – 16. Разобрались в конструкции его мы довольно быстро. Как ни странно, он был укомплектован полностью, и все концы у нас сошлись с концами. Единственное затруднение вызывала у нас сборка затвора. Там были две такие сволочные детальки – «щечки». Это были размером и формой похожие на ириски стальные плиточки со спиленными ребрами. Поставленные, по логике, на свои места, они никак не хотели влезать на положенное им место в магазинной части. Нам уже мерещился расстрел, когда я зорким глазом узрел, что спилы уголков – неодинаковы. Это было заметно только при пристальном вглядывании. Но именно эта волосная разница и заставляла нас предположить, что бельгийский оружейник малость подвыпил, сооружая затвор. Когда эти щечки были поставлены в определенном направлении – затвор сразу собрался. Мы договорились с Толькой хранить секрет, чтобы стать незаменимыми.
[Наиболее трудным делом было – удалить тавот без тряпок и ветоши. Исключительно при помощи растительных средств – травы и подорожников.]26 Все масло с деталей, перейдя на нас, стало нашей с Толей особой приметой, по которой нас можно было почувствовать в темноте минимум на расстоянии ста метров: так от нас воняло керосином и тавотом. Впрочем, мы быстро принюхались и воспринимали это неудобство как средство от комаров и блох. С опережением на полсуток мы гордо отрапортовали Панасюку о досрочном выполнении его боевого задания. За что и получили от него благодарность, выраженную словами «Молодцы, блатные!».
Я не усек, почему в слово «блатной» он вложил столько любви и чувства. Меня, после того, как я ему с почтением и гордостью продемонстрировал собранную конструкцию, с шиком и блеском разъясняя ему особенности и капризы механизма, он зауважал, и я возымел в его лице почти что друга. С этого момента он не называл меня иначе, как «блатным».
Когда мы заикнулись о том, что неплохо было бы разжиться тем, чем пулемет обычно стреляет, он неопределенно сказал: «Там посмотрим!». Игрушка была – как игрушка! Не было только – чем стрелять и в кого.
Но мы думали, что скоро за этим дело не станет.
А пока, накрыв пулемет каким-то брезентом и поставив его около себя, наш добрый командир направил нас… на строевую подготовку.
Мы учились бросать гранаты…
Через пару дней Панасюк демонстрировал своему начальству и кому-то еще повыше результаты своей муштры. Это был предбоевой экзамен. Наши «солдатушки – бравы ребятушки» с блеском продефилировали перед разинувшими рты военными чинами, ничего подобного от штатских ополченцев не ожидавшими. Был продемонстрирован и штыковой бой и перебежки с окапывани[ем]. Все было высочайше одобрено. Панасюк сиял.
В заключение он представил нас с Толей как основную ударную силу и, зная, что мы очень ловко перебрасывались с Толей «гранатой», разрешил нам продемонстрировать наш коронный трюк. С расстояния в 60 метров Толя, стоя около столбика – лесного указателя, условно изображавшего «окоп», - бросил в меня гранату. Я лихо поймал ее на лету (рассадив до крови ладонь об железку, оковывающую ее вокруг) и со своей «окаянной» левой руки27 бросил обратно, причем так удачно, что попал точно в деревянный столбик! Я уверен, что если бы [во власти Панасюка была раздача наград] – я уже имел бы орден!
Раздались аплодисменты!
Похоже было, что начальство обрело полную уверенность, что теперь-то уж, с такими «орлами», выиграть войну – раз плюнуть!..
Я боялся только, как бы они не потеряли сознание, увидев освоенный в кратчайший срок неизвестный никому по конструкции трофейный Бельгийский Кольт! А Панасюк уже сдергивал брезент с нашего трехпудового красавца, Бельгийского Кольта – импотента…
Наверное, [ротный] получил какие-то распоряжения о том, что надо бы как-то подготовиться и к стрельбе. Как-никак, а наш полк назывался стрелковым: 38-й стрелковый полк 13-й стрелковой Ростокинской дивизии! Поэтому нам были вручены под личную ответственность три коробки с патронами – 75 штук в каждой – и строгое предписание: заняться набивкой лент для нашей машины. Ленты, свернутые в спираль, свежие, похожие по фактуре на фитили для керосиновых ламп, не имели латунных перемычек, как в максимовских, а были искусно, фабричным способом так сплетены, что в них образовывались гнезда для гильз. Все было бы хорошо, но первая же попытка загнать патрон с гильзой в гнездо поставила нас в тупик: то ли лента – не от того пулемета, то ли пулемет не от той ленты?.. В плетеное уютное гнездо фитиля–ленты пролезала - и то с трудом – шайба гильзы с патроном. А дальше стоп! Консультацию никто дать не мог. Лейтенант, пользуясь нашей запуганностью, строго приказал набить до вечера ленту. Утром предполагалась учебная стрельба. (Или расстрел – на выбор).
За три часа удалось с грехом пополам и в основном с помощью извозчичьего мата загнать патронов 5-6. Когда я предложил [ротному], подошедшему полюбопытствовать, как идут дела, показать нам – как это делается и попробовать самому, он зловеще усмехнулся и, надвинув сзади наперед на переносицу фуражку, загадочно исчез в глубине леска.
Попытка провернуть и расширить гнездо срезанной рогаткой с отточенным концом ничего не дала: рогатка застревала и ломалась или скручивалась по волокнам спиралью.
Наконец я догадался: в сторонке разжег костерок, набрал побольше срезанных суховатых ореховых рогаточек и обжег на костре до головешек [их] «рукоятки». Уголь на конце «провертки» скользил в гнезде, и дело пошло чуть успешнее. Но сукина лента, пропустив в себя рогатину, сразу же съеживалась до прежних размеров и патрон загонять приходилось, упирая [его] задком в колено.
На лице у Толи застыло выражение благодарности мне за идею – отличиться в ополчении в качестве пулеметчиков. Бедняга, он не знал, что это еще не самое худшее.
Колени как у Толи, так и у меня посинели от первого десятка. До конца ленты оставалось еще штук с полсотни (или около этого). Попробовали с осторожностью, положив портянку на угол зарядного ящика-кассеты, задвигать патрон. Это было очень похоже на попытку уйти от проблемы в мир иной. Трещали и скрипели рогатки–провертки, ломаясь одна за другой. Утешала только реплика Панасюка, процеженная им из-под куста, где он созерцал небо, жуя по привычке травинку: «Ни хрээна! По другому разу будеть, як у Соньки дырка!»
Он был прав. Потом лента, прогревшись, ослабла и проблема стала в том, чтобы патроны во время стрельбы не вывалились бы из гнезд.
А пока… Все уже спали, а мы, набив водяные мозоли на указательных и больших пальцах и синяки на коленях, пытались до рассвета уйти от заслуженной кары за проявленную инициативу. Лента была набита. От набивки второй сердобольный Панасюк, очевидно, вспомнив на досуге о наших перед ним заслугах при показе начальству, великодушно освободил, сказав: «От, господь послал мэнэ лодырей. Лягайте, хлопцы, бо заутра стрэльба…»
И, повернувшись на другой бок, заснул тихо, как мышка.
Утром нас ждал приятный сюрприз… Мы отправились на полигон, где должны были определиться наши снайперские способности.
Выгода нашего с Толей положения заключалась в том, что кроме привычной оснастки (котелок, лопата, противогаз, скатка и рюкзак – в сумме 16 кг) мы должны были доставить на место действия и эту нашу любимую бельгийскую суку. Кряхтя и подвывая, я взгромоздил на Толины плечи, как хомут, двухпудовые сошки-треножник. Гигант сразу осел под их тяжестью. Почва под ним прогнулась, как если бы он стоял на болоте. И, поскольку я не смог бы нипочем нести в одной руке две кассеты, одну (естественно, с набитой лентой) дал Толе в правую руку, а сам, взгромоздив на плечо ствол с казенной частью и держа его за пистолетоподобную рукоять, нагнулся за вторым ящиком.
До войны я видел в ЦПКиО28 Григория Новака29, тяжеловеса-гиревика. Конечно, для него – этот вес был бы пустяшным. Он поднимал и не такое…
Я попытался навести кое-какие справки у Панасюка… Он только сурово погрозил пальцем и указал мне место на левом фланге… Затем, перестроившись по команде, мы двинулись, шатаясь от горя, на полигон, где нам предстояло… впрочем, я не думал, что мы туда дойдем.
Во всяком случае, я!
Но – как ни странно, дошли. Мало того, мгновенно (мы уже репетировали, пока разбирались с конструкцией) мы установили и закрепили сошки, навинтили мигом ствол с кожухом, поставили справа коробку с патронами и пустую и стали рядком по стойке смирно.
Молиться на нас должен был Панасюк! Тем более что сзади стояло заинтересованное начальство. По их отдельным репликам можно было понять, что мы – единственные в дивизии пулеметчики №1 и №2, которые сумели собрать и подготовить к стрельбе пулемет. У остальных – не получилось… Все ожидали еще одного чуда: вдруг он будет стрелять! Перед нами, освещенные утренним солнышком, под дерновым валом стояли фанерные мишени–силуэты. На уровне груди на них были укреплены белые с черным кружком листки мишеней.
Осторожный хохол Панасюк не рискнул открыть военный сезон сам. Он отдал четкую команду: «Быец Сазоноу - на первый, Мигунов - второй номера… пять патрон в тры корротких – заррижай!»
Я картинно подскочил к пулемету, стал на левое колено, почти не глядя, открыл верхнюю крышку пулемета, вытянул из коробки ленту, наложил ее на канал и клацнул крышкой!
Толя, поддавшись моему куражному образу действия, тоже как-то не обычным рапидом, а довольно быстро лег за пулемет и взялся за рукоять. Чуть повел стволом, прицеливаясь, и закрепил вертикальный барашек, я - закрепил левый. Все – в одно мгновение.
Все были поражены. Оцепенели. Самодовольно кашлянув, Панасюк шагнул к пулемету и, довольно быстро отсчитав пять патронов, выдернул из ленты шестой. Чтоб – без излишеств.
Затем, не доверяя Толькиному глазомеру, отпихнул его голову своей и оценил качество прицеливанья своим крестьянским глазом. Сказать было нечего. Кроме одного: «Трымя короткими… Агунь!»
Здесь я почувствовал сильнейший удар в левое ухо, которое я картинно склонил для композиции к стволу пулемета. Впечатление было такое, что я подставил ухо к выходному отверстию дула. Я схватился за ухо рукой.
Мы двинулись через поле к мишеням посмотреть, «убил» ли кого-нибудь Толя. Оказалось, убил. Пока шли, Толя мне что-то шевелил губами. Я согласно кивал головой. Потом он, видя мою ошалелость, начал смеяться. Тогда я обиделся.
Мишень была чуть наискосок пробита двумя и тремя пулями с диапазонами в сантиметр.
Панасюк блаженствовал. Начальство потеряло дар речи. Но, покачивая головами, ухмылялось.
Когда мы по команде сменились «номерами», я дал Толе выслушать то, что я услышал во время его стрельбы.
Теперь, когда мы шли через поле смотреть мои результаты, хохотал уже я, видя Толькино выражение лица. Мой результат был еще удачнее. Я сделал поправку на сдвиг, а может быть, просто земля под сошками страмбовалась и стрельба была стабильнее… Во всяком случае, я ухитрился пятью патронами сделать три очереди!
Тут отважился и сам Панасюк. Видно, ему очень понравилось мое пижонство и то, что я заряжал лихо, не глядя, потому что, собираясь дать «очередуху», он избрал заряжающим меня. Я судорожно поискал чего-нибудь в кармане, чтобы заткнуть ухо. Нащупал только крошки махры. Но не пальцем же затыкать при начальстве!.. Ах-ах! А ротный со смаком, щедро, не считая, отмерил с полметра ленты и только тогда выдернул патрон.
Я лихо проделал все, что от меня требовалось, но в момент, когда он нажал гашетку, несколько нарушил композицию, отшатнувшись от пулемета, насколько мне позволяло чувство стыда и длина моей тонкой шеи.
Очередь – длиною в год!...
У меня из левого уха потекла струйка крови.
Первая кровь, которую я пролил на войне. Впрочем, нет: первая была, когда я ловил гранату, пущенную в меня Толей. На экзаменах.
Потом нас водили на обширную поляну среди березняка, где, построенные по периметру громаднейшей поляны в две шеренги, мы вглядывались в ее центр, где не то кого-то расстреливали (дезертира), не то какой-то военный что-то говорил, а мы хором что-то отвечали, не то повторяли. Наверное, это были слова присяги. Я все равно ничего не слышал и даже видел хуже, чем обычно.
Забыл еще рассказать кое-что, потому что не помню, на каком полигоне это произошло. Наверное - это было позже, когда нам выдали по две лимонки и мы должны были научиться бросать их. А полигон, пожалуй, был тот же, где мы оглохли.
Нас подвели по дорожке среди ржи к окопу, вырытому на середине поля. У окопа стояла черная «Эмка». Как-то необычайно быстро раздалась команда «Кругом!», «Пять шагов вперед, арш!» - и нас посадили в рожь, так что «Эмка» скрылась от нашего взора. «Наверное – «сам» приехал!» - предположил кто-то. Это была шутка!
«Это на «Эмке»-то?» - всерьез усомнился какой-то простак. Все грохнули. Я, нарушив приказ сидеть, приподнялся посмотреть, в чем там дело, и увидел страшное: в открытую дверцу машины двое военных осторожно просовывали третьему внутри человеческую фигуру, с ног до головы обернутую белыми бинтами с пятнами сукровицы ли, крови ли? Я не разглядел. Пришлось быстро сесть, потому что стоявший близ машины Панасюк обернулся в нашу сторону.
Потом он подошел к нам и меланхолично, ровным голосом рассказал: «Та ничого особенного: одна дывчина у первый раз бросала лимонку. Чеку выдернула, а бросить боиться. Держит, а руку свело. Лейтенант ей блажит - бросай! А она, дурочка, ее просто откинула на бруствер, перед собою. Ну, та ей под ноги и скатилась. Лейтенант лег… А она все в себя приняла. Вряд ли жить будет. Доброволка. Три дня назад сама в отряд попросилась!..». Мы, подавленные, молчали. А я еще к тому же видел белую в крапинку мумию в сидячей позе, которую бережно вдвигали в кабину…
Надо ли говорить, что после того, как мы очутились в окопе и, выполняя команду, вырвали чеки с кольцом, наши лимонки полетели на радость отцам-командирам чуть ли не за горизонт…
Словом, практика показала, что мы – боеспособная единица, а не пижоны-белоручки, «тэлегэнция». Даже произошло чудо: Панасюк вполголоса запел на привале под кустом. Что-то свое, хохлацкое, теплое, задушевное, высоким красивым тенорком.
Хороший был паренек этот Панасюк. Загадочный, таинственный, «с подтекстом», с какой-то странной и трудной биографией. С «задками». А может быть, и с трагедией в прошлом. Говорили разное – и что «штрафник», и что всю семью его перебили, и не догадывались только об одном: о том, что он был очень одинок, оказался в среде непонятных ему по духу и уровню ребят-студентов. Ему казалось, что воевать придется одному за всех. Потому как из всей дивизии боеспособным был, пожалуй, только один наш взвод. И то – за вычетом профессуры и доцентуры.
Но, увидев, что – не один, а мы очень послушны и ловки, просто расцвел.
И даже когда по приказу, окончив обучение и формирование, мы должны были перебазироваться на рубежи Волоколамска, рано утром, построив нас в строй, неожиданно для нас произнес перед нами речь на самом высоком пафосе.
Он, видимо, отметив с другим младшим комсоставом этап, «обмыв» его, так сказать, стал перед нами в позу полководца и хрипло и взволнованно сказал:
«Товарышши! Наща родина зараз в опастности! Луче жить стоя, чем умереть на коленях! За нашу родину, за нашего Сталина, за нашу счастливую жизню! Враг будет разбит, победа будить за наме!..». И, подумав, добавил: «Так что – смерть немецким захватчикам!». «Нале-е-гуп!», «Щагом… урш!». Затем, не зная, как бы еще выразить свой боевой энтузиазм, с размаху долбанул ногой по пустому (как он думал) патронному ящику. В ящик мы, не зная, что он будет игровым атрибутом, сложили как в помойку пустые консервные банки, бутылки и прочий мусор. Конечно, ящик, как вкопанный, остался на месте, не понимая, что хотел от него командир. Не подействовал на него и отборный мат, которым выразил свое удовольствие от общения с ним наш славный Панасюк.
Морщась и прихрамывая, он, забыв свое коронное «А-ррыс, тфу-трыэ!», плелся за нашей ротой вперед, на запад!..
Вот и первое зрительное знакомство с врагом. Только что перейдя мост через узенькую Ламу30, профессионально – вразнотык, не в ногу, - мы двинулись вправо к реденькому осиннику. Мы с Толей, естественно, шли последними, сгибаясь под передовой западной техникой. Еще этот б..дский кожух, который нес я, конструктор придумал так уравновесить, что центр тяжести приходился как раз на жесткий угол, где прямоугольная казенная часть соединялась с цилиндром кожуха. Спасала только пилотка. И то – не очень. Спасал мат и чувство юмора. Было очень смешно, что так можно было угадать точку, которая, будучи передвинута на сантиметр вперед или назад, сразу же заставляла съезжать тело пулемета. Уравновешивался ствол только на самом остром уголке. [А] обилие остальных предметов… Карабин приходилось надевать не через плечо, а по-кавалерийски – через грудь, – что, в свою очередь, стесняло дыхание. Скатка из Панасюковой шинели не давала дышать и левой стороной груди. Противогаз и лопатка били по котелку и заднице. Прямо держаться помогал рюкзак.
Утешало обещание вскоре выдать нам шлемы.
Именно шлема мне и не хватало.
Во всяком случае, мост под нами не рухнул. И поэтому следом идущие части тоже воспользовались любезно предоставленным им средством переправы, кот[орое] остал[ось] уже позади.
И здесь впервые раздалась команда «воздух». Кто мог – врассыпную драпанули в осинник и залег[ли] там. Мы же с Толей просто легли на землю, где нас застала команда, и с надеждой стали ждать избавления от походных мучений.
Низко над берегом, с которого мы только что переправились, с ревом пронеслись курбастые, похожие на скворцов «МИГи». А может быть, и не «МИГи», а «Мессеры». У нас не было опыта в определении силуэтов своих и чужих. Нам было приятнее думать, что это «МИГи» и считать, что это – «Мессеры». Но то, что мы увидели в вышине – то, что и было причиной команды, - мы [разглядели] попозже. Это была двухкорпусная «Рама» - явно немецкий разведчик.
Мы блаженно лежали на земле, смоля махорочные цигарки, лениво переговариваясь и мечтая, чтобы эта «Рама» хоть часок провисела над нами.
И вот мы на первом настоящем боевом рубеже: берег Ламы - высокий, поросший ольхой и соснами поверху. Красота – необычайная. Пейзаж – остроуховский «Сиверко»31, только в зеркальном отображении. За бахромой высоких сочных сосен на высоком берегу – большая поляна в окружении густого, с преобладанием хвойных, леса. Уютище чудовищный. Поляна – вырубка с большими пнями – можно и посидеть. Комфорт. В центре сброшены и сложены вещи, поставлены в козлы карабины.
Сразу – приказ окапываться. Панасюк намечает место для нашего пулеметного [гнезда]: [под] самым корнем толстой сосны. Это – левый фланг будущей оборонной линии. Вправо от нас роют окопы наши стрелки. «Черт побери, - смешно, по-штатски, возмущается наш декан Зиновий Маркович Фельдман32, – Здесь же целая корневая система!» У нас – тоже корневая система, да еще какая! Но я с любовью проектирую. Меланхолический Толька не мешает. Сидит, держит в своих толстых больших лапищах обсмолок цигарки. Курит. Советует. Когда нужно рвануть корягу – рвет.
Я прокапываю под верхним корнем - толстым, в руку толщиною, - щель к реке сквозь обрыв, не нарушая дернового покрова. Выравниваю переднюю полку. Можно будет водить стволом. Выкапываем в полный рост окоп на двоих. Грунт – легкий. Песок с суглинком. Корни – перерубаем лопаткой. Достали напильник, лопата – как бритва. Потом, окончив черновую работу – шлифуем. Я нахожу глиняный карьерчик поближе к реке. Замешиваю глину с песочком. Оштукатуриваю полки справа и слева. Полочка для папирос (махры). Толя мрачно изрекает: «Когда кобелю делать нечего, он яйца лижет».
Устанавливаем стационарно треногу. Все по расчету – тютелька в тютельку. Корень сосны и толстый комель маскируют щель. Ствол имеет простор для движения вправо–влево, вверх и вниз. Простреливается все в пределах 160°. Блеск. С сожалением прорываем соединительный ход к соседнему окопу. Даже жалко нарушать комфортабельность гнездышка. Я представляю, знаю уже теперь, как выглядит артподготовка по огневому рубежу и могу себе представить, во что превратился бы этот вылизанный как современная кафельная кухонька кусочек рая для пехотинца. И еще я теоретически представляю себе удивление бойцов или бойца, с боем отступающих «на заранее подготовленные рубежи», и вдруг с размаху, с бега, еще не отдышавшись от драпа, влетевших в этот «чудо-окопчик»! Какие мысли, какие чувства мог он родить в душе у бойца?
Ответ один: если это чудо уцелело и им воспользовался кто-то, спасаясь от вражеских пуль, то в нем неизбежно должна была возникнуть уверенность в незыблемости нашего строя, в невозмутимости и основательности тыла, способного так не спеша и солидно подготавливать рядовые защитные очажки. И что за этот очажок надо драться, как за произведение искусства, а не только как за кусок берега.
Как стало известно, на этих рубежах стояла 327-я дивизия и по свидетельству самого Жукова, подготовленный нами огневой рубеж очень помог нашим регулярным частям держать оборону и истреблять безнаказанно очень солидные наступающие части немцев.
А пока мы лакомились земляникой. На полянках по самой опушке находящегося за нашей спиной леса были обнаружены при «проветривании» просто залежи крупнейшей, спелейшей и чистейшей земляники. Мы не знали тогда вкуса ананаса, но знали сорт «ананасной клубники». Это были светлые бело-розовые ягоды, как-то распухающие от места, где завязывались, и, вырастая, оставля[ющие] за собой туго натянутую, похожую на молодую, вырастающую после ожога кожу, тонкую пленку, под которой душистый, брызгающий при откусе сок заставлял зажмуриваться от блаженства. Иногда такую ягоду называют лесной или дикой клубникой…
Поскольку мы «отрылись», нашей задачей было только ждать, когда появятся «мишени» да полегоньку (Панасюк, уже зауважав нас, не налегал со сроками) набивать злополучные фитили с запасом. Правда, мы уже обнаглели с этим делом, и если раньше мы с осторожностью засовывали каждый патрончик в изрядно расширенное гнездышко, то сейчас смело, наплевав на все, следя только за тем, чтобы не долбануть себя в подбородок, используя вместо коленок пни, достаточно жесткие, чтобы загнать и достаточно мягкие, чтобы не пробить капсюль, быстро выполнили всю программу.
От Панасюка мы скрыли новый способ производства. Он, видя, как мы, нарочито кряхтя и матюгаясь, при нем забивали патроны при помощи железного угла зарядного ящика, не подходил особенно близко. Предпочитал сопровождать наших мужиков, когда ходили подхарчиваться. А мы поочередно ползали по полянке и насыщались витаминами в очень привлекательной упаковке.
Иногда, стоя на четвереньках среди душистой, разморенной солнцем хвои, начинающей подвядать августовской травки, видя копающихся в глубине цветка пчел, безбоязненно выставляющих из лепестков свои вооруженные мохнатенькие задницы, я полностью забывал о войне. Не забывал, конечно, а выключал ее из сознания и хотел проснуться, выйти из этого неопределенного, грозящего, надвигающегося.
С Панасюком у нас была почти дружба. Он ласково называл меня «блатным», «тыкал» и даже откровенничал. Но тут же, спохватившись, озадачивал меня железностью и официальной грубостью. Он был нетороплив и ленив, как многие классические хохлы. Не любил зря двигаться, делать то, чего можно было не делать. И, казалось, удивлялся чужой торопливости и инициативе. В дни неопределенного затишья перед бурей он мог часами сидеть, глядя перед собой куда-то в пространство и покручивая зажатую в зубах неизменную травинку. Он не курил, был немногословен, и если, как теперь говорят, «выступал», то – «по делу».
Я всячески старался «контачить» с ним и при случае рассказать ему о своем несчастье. Но – никак не получалось.
По моей просьбе он часто оставлял меня дневалить, и нам приносили котелок с неизменными щами. Я ел немного. Он, как хохол, был рад, что ему оставалось две трети. А ребята, подклянчивая у повара добавку, были рады, что кто-то неизменно дежурит.
Это был повод для того, чтобы подружиться. Я «травил» ему несложные анекдоты. Он крякал и похохатывал, хотя глаза его были пусты и тоскливы.
А потом у нас появился сблизивший нас секрет. Как-то раз, перебирая скудный запас – всего две обоймы патронов, все-таки выданных нам под условием строгого контроля и отчета в использовании, - я обнаружил на одной из гильз вмятину и показал ему. Он взял ее, не спеша оглядел и меланхолично сказал: «Та ни хрэна! Хильза, як хильза! Ну-ка, дай-ка твой карабин!» Я дал и стал смотреть.
Он осторожным мягким движением загнал его затвором в ствол. Потом поискал глазами, - во что бы шарахнуть. Просто так, в небо, хохол выстрелить не мог. И, что ли, испытывая меня, сказал: «Ну-ка, блатной! Возьми-ка тую кардону!» - и сапогом показал мне на какую-то прокладку от патронного ящика. «Он, постау ее на он ту деревягу!» - и кивнул на одну из сосенок на краю обрыва, ведущего к реке. Я пошел и постарался примостить картонку на одну из веток, что была повыше. Поставил неустойчиво, и от легкого дуновения ветерка она упала.
- Та дэржи ее уверху! Не боись!
- А я и не боюсь. Говна-то! Я чего боюсь: чтобы тебе зубы не выбило! А то у меня был случай на охоте…
- Ладно, ладно! Дэржи! Трепаться будем посля.
Я поднял картонку над головой. Панасюк стал поднимать карабин снизу вверх. Я почти физически ощущал щекочущее чувство, телесное прикосновение линии прицела.
С облегчением [наконец] увидел его руку, снизу подпирающую карабин. Я давил фасон вовсю: «Не боись, лейтенант!..». Панасюк щелкнул бойком. Осечка. «Я же говорил?..». «Годи!» - остановил меня Панасюк и, быстро «откозыряв» затвором, выстрелил навскидку. Я опустил картонку. На центре была дырка. Не зря учили в Рязанском нашего лейтенанта.
Колени у меня дрожали. Панасюк подошел ко мне, молча отдал карабин.
А потом, посмотрев мне в глаза, очень серьезно сказал: «А бачишь, шо мэнэ будеть, колы взнають?» Я пожал плечами…
А он, зацепив указательным пальцем за большой другой руки, прицелился мне в лоб.
Я понял. И сказал, заверительно приложив руку к груди: «Могила!». Он посмотрел на меня с какой-то невыразимой тоской и, не похвалив и не сказав, что пошел бы со мной в разведку, нагнулся, сорвал соломинку и, зажав ее в зубах, повернулся ко мне спиной!
«А патрон?..» - сказал я.
Он непонимающе обернулся: «Якой патрон?.. А! Та возьми из запаса – к лентам. Калибр ж – одинаковый!». Я понял, что он мне теперь полностью доверяет.
И я втайне гордился, что уже побывал под пулей и не дрогнул. Хотя пуля была и своя!
Я очень мелочно и подробно записываю свои ощущения от пережитого. Никто нигде не записывал так подробно второстепенное. Наверное, людям запоминается только самое важное, ошеломляющее, критическое… Я не знаю, как повел бы себя в бою, в момент смертельной опасности. Думаю – не хуже бы, чем другие. Всеобщее шоковое состояние, пафос остервенения и злобы к причине, вызвавшей угрозу жизни – хороший стимул, чтобы победить страх, перевесить его. Известно, что единичная смерть (например – в уличной катастрофе) – действует на окружающих сильнее, чем одна из многих, в обстановке, где смерть – типична! Минимальные дозы несчастий, как это ни парадоксально, заметнее, ибо они не ошарашивают, а позволяют анализировать и переживать «по пустякам».
И потом – «у кого что болит…»!
И еще: самые сильные впечатления – первые.
Все, что со мной происходило – происходило впервые!
Если бы нас доставили на место боя сразу и сразу же заставили стрелять и подставлять себя под пули, нам было бы легче. Казнь не должна откладываться. Нельзя давать человеку остынуть даже в порыве к загробной жизни…
Вот мы и привыкли к отсутствию опасности… Вроде – с подъемом и энтузиазмом закричали «Ура!» - и бросились в атаку… И остыли. Стали думать о том, что неплохо бы «чтоб и дальше так продолжалось» (как в анекдоте сказал один джентльмен, падая из окна и пролетая между десятым и девятым этажами…). Помню, как ближе к вечеру, откопав очередной окоп (мы выходили на рытье оборонных рубежей в окрестностях нашей базы на берегу Ламы), я уселся на покатом склоне поля, порыжелого от неряшливо скошенной пшеницы и, засмолив махорочную козью ножку, тоскливо смотрел в сторону, где под свинцовыми грозовыми облаками чернел и безмолвствовал далекий горизонт.
Тоскливо было так, как никогда. Наверное, я был один, потому что все ушли ужинать на кухню, а я по привычке остался…
Нет, я не представлял себя ни убитым, ни раненым – для этого не было зримых примеров. Просто было уныло и страшно из-за неопределенности. Голодно, серо и бездомно…
Хотелось, чтоб все это было каким-то чудом отменено, прекратилось. Спустя много лет я заметил, что во всех снах, которые мне когда-либо «показывали», небо – черное. Мне никогда не снилось светлое веселое небо. Земля и люди всегда были светлыми, иногда – цветными… Рыба была серебристой, бумага – белой, тела – бархатистыми, как персик, вода – сияла и переливалась, вскипая бурунами…
А небо? Небо было всегда космическим, как на гравюрах Доре33, – черным, пустым. И вообще, не только небо – весь задний план «сонной картинки» был черным, страшным, грозным, беспредметным. Подобное этому впечатление у меня осталось и от того безмолвного моего пребывания на колком безжизненном покатом поле. Земля, я и грозное небо… И – ничего хорошего впереди! Я плакал очень редко. Но, помню, тогда слезы потекли у меня градом. Хорошо, что никого не было рядом. Впрочем, если рядом кто-нибудь был бы, я бы не заплакал…
[ ... ]
1. Мильчин Лев Исаакович (1920-1987) – художник-постановщик анимационного и игрового кино, однокурсник Е.Т.Мигунова, позже – режиссер-аниматор. Заслуженный художник РСФСР. Преподавал во ВГИКе.
2. Мигунов имеет в виду известные плакаты группы художников Кукрыниксы «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» и Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985) «Родина-мать зовет!».
3. Отец Е.Т.Мигунова – Тихон Григорьевич Мигунов – после безвременной смерти первой жены (матери Е.Т.Мигунова), Марии Константиновны, женился на ее сестре, Зинаиде Константиновне.
4. На улице Фрунзе (до 1925 и после 1994 – Знаменке) находилась квартира тетки Е.Т.Мигунова, Зинаиды Константиновны, и ее первого мужа – Якова Евсеевича Клецкого.
5. Урумчи – город в Китае, ныне - центр Синьцзян-Уйгурского автономного района.
6. Красково – дачный поселок в Люберецком районе Московской области, где проживала после замужества сестра Е.Т.Мигунова – Нина.
7. Кемарский Николай Васильевич (1920-1985) – кинодраматург, однокурсник Е.Т.Мигунова. Работал в неигровом кино.
8. Сазонов Анатолий Пантелеймонович (1920-1991) – художник-постановщик анимационного кино, график. Однокурсник Е.Т.Мигунова, оказавший на него наиболее сильное влияние, в паре с ним Е.Т.Мигунов работал на киностудии «Союзмультфильм» до 1946 года. Заслуженный художник РСФСР (1972), кандидат искусствоведения (1951). Преподавал во ВГИКе с 1946 года, профессор.
9. Текст, заключенный в квадратные скобки, записан автором на полях рукописи.
10. Бялковская Сюзанна Казимировна (1919-1999) – художник-постановщик анимационного кино, график. Однокурсница Е.Т.Мигунова, позже вышла замуж за А.П.Сазонова. Работала на киностудии «Союзмультфильм» до начала 1950-х годов.
11. Малахов (наст. ф. Бялковский) Казимир Людвигович (1899-1985) – артист театра миниатюр, театра оперетты, выступал на эстраде, был известным футболистом.
12. Шершевский В., Голубовский Б., «Сема» - очевидно, приятели Е.Т.Мигунова. Никаких других упоминаний этих фамилий в воспоминаниях Мигунова о детстве и школе обнаружить не удалось.
13. ЦДКА – Центральный Дом Красной Армии
14. Ольга Александровна Бялковская (по второму мужу – Кузнецова) – мать С.К.Бялковской.
15. Видимо, имеется в виду здание теперешней школы №304, ныне располагающееся по адресу: улица Кондратюка, дом 5. По другим данным – это бывшая школа № 284 (проспект Мира, д. 87), ныне гимназия № 1518.
16. Имеются в виду эпизоды проводов на фронт из фильма Михаила Константиновича Калатозова (1903-1973) «Летят журавли» (1957), снятые оператором Сергеем Павловичем Урусевским (1908-1974) с участием актрисы Татьяны Евгеньевны Самойловой (р. 1934).
17. Орлова Нина [Николаевна] – планировщица (ассистент режиссера), работала на «Союзмультфильме»; попытки ухаживания за ней осенью 1941 года во время производственной практики на киностудии «Союзмультфильм» описаны Мигуновым в тетради «О, об и про…» №2, эти фрагменты были опубликованы в журнале «Киноведческие записки» № 68.
18. Мцыри – санаторий на территории усадьбы Середниково в Химкинском районе Московской области, близ дачного поселка и платформы Фирсановка.
19. Богданов Михаил Александрович (1914-1995) – художник игрового кино, однокурсник Е.Т.Мигунова. Народный художник СССР (1985), член-корреспондент Академии художеств СССР (1973). С 1946 года преподавал во ВГИКе, с 1965 – профессор. Был секретарем правления СК СССР. Работал совместно с Г.А.Мясниковым.
20. Куманьков Евгений Иванович (р. 1920) – художник театра и игрового кино, Народный художник РСФСР (1981), однокурсник Е.Т.Мигунова, работал на киностудии «Мосфильм».
21. Очевидно, связь матери Е.И.Куманькова с персонажем повести Максима Горького продиктована чисто внешними ассоциациями автора.
22. Каманин Сергей Михайлович (1915-2002) – художник, однокурсник Е.Т.Мигунова. Заслуженный художник РСФСР. С 1943 года преподавал во ВГИКе, с 1969 – профессор. Был деканом художественного факультета.
23. Текст, заключенный в квадратные скобки, записан автором на полях рукописи.
24. Далее в тексте варьируется наименование должности лейтенанта Панасюка – «взводный» либо «ротный».
25. Греков Митрофан Борисович (1882-1934) – советский живописец, специализировавшийся на тематике Гражданской войны.
26. Текст, заключенный в квадратные скобки, записан автором на полях рукописи.
28. ЦПКиО – Центральный Парк Культуры и Отдыха.
29. Новак Григорий Ирмович (1919-1980) – советский спортсмен-тяжелоатлет, первый советский чемпион мира (1946), в 1939-52 многократный чемпион СССР и рекордсмен мира, с 1955 – артист цирка, Заслуженный мастер спорта (1945), Заслуженный артист РСФСР (1969).
30. Лама – река, правый приток р. Шоши, протекает в Московской и Тверской областях.
31. Имеется в виду известная картина «Сиверко» (1890) русского живописца, передвижника Ильи Семеновича Остроухова (1858-1929).
32. Ошибка. Имеется в виду Фельдман Яков Маркович (1898-?), бывший деканом художественного факультета ВГИКа.
33. Доре Гюстав (1832-1883) – французский график, иллюстратор.
Публикация и комментарии Г.Бородина. Фрагмент статьи в журнале «Кинограф» № 18, 2007